Всё кругом будто заволакивает мистической дымкой – онемение левой части тела теперь ощущалось как медленно распространяющееся характерное покалывание, которое так и норовило перерасти в лёгкий озноб. Вдруг очень захотелось в горячую парящую ванну, запереться здесь, наполнить всё кафельное пространство тёплой влагой, и не вылезать, пока температура не опустится до изначального минимума – быть здесь со своим возлюбленным братом и мужем, со своей Луной, со своим светом и тьмой, без которых его жизнь потеряла бы всякий смысл. И, невзирая на странные ощущения, разливающиеся незнакомой прежде лёгкой тяжестью по телу, ему всё равно так хорошо и сладко, когда Рэн, не отпуская его, отвечает на нежность истосковавшегося поцелуя – как будто страшился, что может быть как-то иначе.
[indent] Здесь и сейчас всё вообще ощущалось как первый раз – их первое признание во взаимной любви, первый поцелуй, взаимный трепет их душ с сердцами, и его личный страх сделать что-то не так, превращавший все его действия в набор топорных и совсем некрасивых телесных функций. То, что он делал всю жизнь – готовил для Рэна, играл с Рэном, обнимал Рэна – вдруг в какой-то момент стало таким неловким, так норовящим выйти из-под контроля, и каждое своё действие Торкель воспринимал в парадигме между “плохо” или “просто отвратительно”. Ему всегда чудилось, что он как будто недостаточно старается, что он не сможет дать своему возлюбленному всего, что он бы ни захотел, даже не спрашивая, чувствуя что-то таинственное и скрытое в душе Рэна, что-то такое, чем он не хотел или даже не мог поделиться с ним. Но вот они вместе – в качестве, о котором семнадцать лет назад Токи даже не мог и мечтать – и Луна признаётся ему, что тоже любит, и тоже тихонько боится.
[indent] – Наверное, но… Я всегда ощущал, что это был не просто страх, а что-то… Намного большее. Что-то, на что мне не хватает мозгов и всех органов чувств, – признаётся он и находит в этом иронию, ведь теперь, когда его половина тела как будто отказывалась присутствовать в этом мире и чувствовать этот мир, он осознавал, что может понять всё, что Рэн ему предложит.
[indent] От всех этих слов с одной стороны накатывает эгоистичное облегчение, но следом за этой мелкой волной прибывает полноценный прилив в виде беспокойства – был ли Рэн с ним спокоен и расслаблен? За их чувствами стоит какая-то иная история, намного более глубокая и сложная, и то, что она всё ещё была спрятана для Токи за семью печатями, и внушает этот нервный страх. Потому он готов услышать что угодно, лишь бы обрести ясность – теперь точно.
[indent] Рэн подводит его к мягкому пуфу, придвигает вплотную к стене и помогает Токи сесть, ухаживая за старшим так, как будто тот был неразумным мальчишкой – и это ощущение навевает приятные воспоминания, которые тонкими паучьими нитями тянутся из глубин его позабытых снов. Снов, что были смешаны с обильным хламом тревожных мыслей и реальных воспоминаний, расфасованных по коробкам, распиханных по тёмным углам так, чтобы сам Торкель никогда не смог их разобрать, хотя бы даже подобраться к нужным – что-то невидимое и неосязаемое каждый раз наталкивало его на ложный след. Но не теперь, когда младший седлает его бёдра, одним только этим движением вызывая внутренний нежный трепет и дробный вздох – как будто и это случается с ним в первый раз. Луна ласкает его точь-в-точь так, как ласкала когда-то невообразимо давно, льнёт, нежит, чутко угадывая все его желания, ведя пальцами по невидимым дорогам его кровеносной и нервной систем. Рэн всегда знает, что нужно его брату, Рэн всегда знал его лучше него самого – потому так и хотелось довериться его мудрости, так легко и просто соседствующей с мальчишеской простотой и звонкостью, внушающей надежду на завтрашний день. Торкель всегда был упадочным пессимистом, и Рэн помогал ему не упасть на дно, а он старался помогать Рэну настолько, насколько это было в его силах, чтобы каждый новый день был для него счастливым и беззаботным – делал всё то для того, чтобы дать то, что не мог или попросту не хотел дать ему Джиро.
[indent] Становится хорошо и тепло, будто вода окружает его, угадывая недавнее желание искупаться в горячей ванне. Токи словно погружён в лёгкую и сладкую дрёму, которой руководит его муж – единственный властитель всех его снов. Им был заполнен мир по ту сторону привычной ньютоновской физики и евклидовой геометрии, в тех снах не было места ни времени, ни привычному пространству, там миром правят не деньги и недвижимость, а боги и монстры – и всё это было в руках его Рэнмо, его Цукирэ, его Луны. Его голос звучит прозрачным ручейком в голове Токи, отчего он улыбается сонно и изнеженно – боль отступает, позволяя, наконец, наслаждению занять своё место. Близость с мужем – наркотик, от которого он вряд ли сможет когда-либо оторваться.
[indent] Всё, что сейчас говорит ему Луна, дрожит, нанизанное на струны его души – младшему всегда легко давались любые струнные, какие не дай ему в руки, и они немедленно начинали петь. Джиро был горд сыном, утверждая, выпятив грудь колесом, что это Рэн в него такой талантливый, однако, у Токи всегда был своё мнение на этот счёт – Рэн талантливый, потому что он таков, каков он есть, и это ничья заслуга, кроме него самого. От его слов лицо вдруг заливается краской и Торкель прикусывает смущённо расплывшиеся в улыбке губы, на пару мгновений пряча увлажнившиеся глаза от восхищённого взгляда Рэна. Когда он снова смотрит в любимое лицо – единственное такое на всём свете, самое красивое и утончённое – и хочет что-то ему ответить, тогда изящная, но крепкая ладонь ложится поверх его губ. Сейчас очередь говорить всё ещё стоит за Рэном и Токи покорно и терпеливо принимает эту данность.
[indent] Брат продолжает говорить, слово за словом, предложение за предложением, и тот прежний тон такого хрупкого счастья постепенно начинает трещать по швам – они оба будто встали на тонки мартовский лёд. Позёмка коснулась его внутренностей, когда чужие воспоминания полились на него бурным потоком, а потом обрушились сметающей всё на своём пути лавиной – и Торкель забывает, как дышать, потому что чужие откровения не только оказываются безумно болезненны и застарелы, но ещё и потому, что они потянули за собой всё, что помнил о тех временах Токи. Он вспоминает всё – и ту внезапную перемену настроения младшего, причину которой он никак не смог выпытать, и даже мороженое, тайком купленное на скопленные пенни, почти не улучшило ситуацию; может, совсем чуть-чуть, но подобные величины Торкелем никогда не оценивались как достойные. Всё вдруг становится таким понятным, а потому вызывает отголосок лёгкого истерического припадка – Торкель ведь, поддаваясь всем своим печалям и недомолвкам, которых не был в состоянии вынести в виду особой организации характера, чуть не совершил непоправимое. Похоже, им обоим есть в чём признаться друг перед другом, но Рэн продолжает говорить, а Торкель не выдерживает – от всего, что младший рассказывает, нутро пенится и рвётся, трещит слёзным шквалом, который мелким бисером находит свой путь через глаза.
[indent] Все фантастические истории о якудза, боевых искусствах, об удивительном переплетении снов, которым владел его младший, всё это заливается кровавым выпотом, орошается болью и ужасом, и рушится, не успев построиться кирпичик за кирпичиком. Ему реактивно хочется обнять мужа за плечи, прижать к себе – и Солнце это делает. Ему хочется обогреть Луну, утереть эти слёзы, когда все они выйдут вместе с невыразимой печалью и кошмаром, который Рэну пришлось пережить в одиночку, но и это не всё… Ведь помимо тоски по своей истерзанной любви и острой жажды поддержать, дать всё, что бы Рэнмо не попросил, в груди закипает ярость. О да, именно та, которая готова стереть в порошок всех, кто был тогда причастен к этому насилию над его ненаглядной Луной – хладнокровно выследить и последовательно выпотрошить, снести их наполненные дерьмом головы с плеч, насадить на колья в назидание, может, даже освежевать парочку до костного остова, чтобы… Чтобы что?
[indent] – Иди ко мне, – только и говорит Торкель, прижимая дрожащего возлюбленного к себе, вдруг осознавая, что эти смерти ни к чему не приведут, и тем более было бы эгоистично требовать от Рэна вспомнить морды тех ублюдков, ведь он так пытался это забыть… Пытался так сильно, что вытеснил всё это в мир их снов, которые кажутся чем-то сокровенным и общим, принадлежащим только им двоим.
[indent] – Я бы так хотел уничтожить их, сломать, разрушить за то, что посмели даже прикоснуться к тебе… У них не было бы шансов, поскольку я бы не остановился до тех пор, пока последняя скотина не отдаст богу свою вонючую жизнь… Я многое бы сделал, чтобы они страдали и страдали невероятно долго, как уже сделал это однажды, но… – он заглядывает в лицо младшего, отводя в стороны свалившиеся на лицо пряди волос, показывая себя – настоящего, реального.
[indent] – Но лучше я сделаю счастливым тебя. Сделаю так, чтобы эта боль со временем утихла, чтобы я смог перекричать твоих призраков, – говорит он и голос его в этот момент как будто двоится, а реальность расслаивается, погружая его в чувство острого дежа вю. Это заставляет его голос слегка споткнуться, ненадолго замереть, чтобы вновь зашелестеть с новой силой.
[indent] – Мне тоже есть, что рассказать тебе. Я помню тот раз, когда ты упал в душе и в тот самый момент со мной тоже что-то стряслось, – голос снова даёт сбой и Торкель прочищает глотку, аккуратно касаясь губами подбородка любимого, чтобы после уложить его на плечо, позволяя успокоиться, расслабиться и вслушаться во всё, что он собирался сказать.
[indent] – Всю жизнь меня преследовала тяга к саморазрушению. Всегда мне казалось, что мне здесь не место, и что никто не заплачет, если меня не станет – что от меня наоборот нужно избавиться и я был рождён только для того, чтобы умереть. Это ужасное давящее одиночество, которое пожирает все счастливые воспоминания и толкают на чудовищные поступки… В то утро, когда ты упал, я увидел себя в средневековой психушке, – Торкель старается говорить размеренно и чётко, не позволяя своему голосу больше подводить его, и, кажется, у него получается – пальцами он успокаивающе рисовал на спине Рэна бессмысленные узоры, стараясь погрузить его в состояние безопасности и уюта, вернуть его в их совместное “теперь”.
[indent] – Меня туда сдали, как мусор, не для того, чтобы исправить, нет – они знали, что живым я оттуда не вернусь. И знали то, что там я буду страдать. И они были правы – мне просверлили череп наживую, и я чувствовал всё, меня бросили подыхать в мою камеру, и я тоже чувствовал всё, и никто меня не услышал. И это одиночество преследовало меня всюду.
[indent] Вот он и подходит к моменту, который вызывает в нём острый приступ стыда до сих пор. К моменту своей вопиющей слабости, никчёмности, к чувству отсутствия всякого достоинства, с которым он не смог принять вещи такими, какими они являются, бесконечно переводя стрелки на себя, делая именно себя виноватым во всех смертных грехах – особенно тогда, когда он никак не мог помочь своему маленькому брату. Разумеется, он помнит, как тот огрызнулся и закрылся, как ракушка – как наполнился молчанием, как замкнулся, чтобы вновь улыбнуться Торкелю за завтраком только спустя несколько дней – несколько мучительных дней, в которых Токи пребывал с тем же беспомощным чувством, какое окутало его ремнями, сковавшими его конечности и голову. Как перевёрнутый на спинку жук, насаженный на булавку, он так и не смог найти ни ответов, ни прощения самого себя, решив, что Рэн, на самом деле, всё осознал и понял – понял, каков гадкий извращенец его старший брат.
[indent] – Я тогда думал, что ты понял, что я люблю тебя совсем не как брата. Понял, что я так и не стал встречаться ни с одной девчонкой не потому что неудачник, а потому что мечтал только о тебе. И мне показалось, что ты меня возненавидел – раз и навсегда, ведь ты ничем не хотел делиться, не подпускал к себе после драки... Я думал, что драки, – он судорожно и тяжело вздыхает и прижимает Рэнмо к себе, будто утопающий – спасательный круг.
[indent] – Это было невыносимо – думать, что я потерял тебя, и что скоро ты встретишь кого-нибудь чудесного и позабудешь обо мне. И как тогда, в Бедламе после трепанации, я думал только о том, чтобы эта мука прекратилась… Думал здесь, в этой ванной, взяв лезвия и распарив свои запястья под краном. Я был почти готов сделать это, но вдруг… – нервный и совсем невесёлый беззвучный смешок заставляет его вздрогнуть и уткнуться носом брату в шею.
[indent] – Джиро меня вытащил, кто бы мог подумать? Он постучался тогда, очень настойчиво, и сказал, что ему срочно, прямо сейчас необходима моя помощь – сначала на кухне, потом с аппаратурой что-то подшаманить… Твой отец тогда занял меня на весь день, и хоть он ничего и не спрашивал, мне казалось, что он и без этого всё прекрасно понял. И мне стало так ужасно стыдно!.. Прости меня, прости, Рэн!
[indent] Чтобы не заговорить во всю силу голосовых связок, он специально тушит себя, заставляя шипеть, точно расплавленный на коже свинец. И они как будто, действительно, сплавляются с Рэном воедино, вновь становясь целым, каким они стали однажды – тысячи лет назад, до того, как у государств появились чёткие границы, а их народы встретились. Почему-то сейчас Торкель даже не верит в это – он это знает и ничто не сможет его переубедить.
Отредактировано Torkel Kittelsen (29.10.2022 21:11:37)

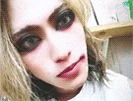


 Вопросы по "Biolife", партнерство
Вопросы по "Biolife", партнерство Вопросы по криминалу, полиции, жизни форума
Вопросы по криминалу, полиции, жизни форума



























